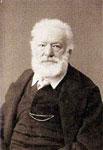с.123 В созданной Римом державе взаимодействие с миром варваров было для римских властей не только геополитической пограничной проблемой, но и актуальным вопросом военного строительства и внутренней социальной политики. Это взаимодействие в немалой степени обусловливало эволюцию римской военной организации, вооружения и тактики, политику рекрутирования, духовно-культурный облик солдат императорской армии, а также процессы интеграции в структуры Империи различных слоев провинциального населения. Не меньшую значимость имели контакты в военной области и для развития самой варварской периферии, как внутренней, так и внешней.
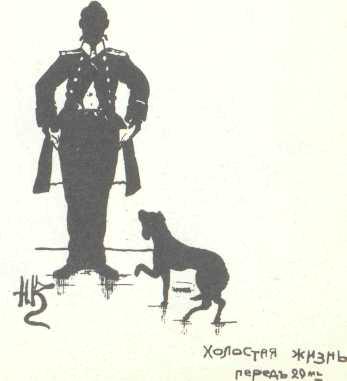
с.124 Данные проблемы давно и разносторонне изучаются в историографии с привлечением всего многообразия источников. Среди них немаловажное значение имеют и свидетельства античных писателей, которые могли непосредственно наблюдать то, что теперь называется провинциализацией и варваризацией римских вооруженных сил. Суждения и оценки греко-римских авторов, касающиеся этого процесса, и будут предметом нашего анализа. Совокупность соответствующих мнений представляет несомненный интерес. Во-первых, она может служить определенным коррелятом или даже исходным пунктом для анализа документальных свидетельств, которые дают конкретный материал об этническом составе и культурном уровне армейских контингентов. Во-вторых, высказывания античных авторов и показательны сами по себе, фиксируя отношение самих современников к процессу варваризации армии и являясь выражением определенного общественного мнения, тех стереотипов восприятия, которые проявляются в тех или иных литературно-риторических топосах, но основываются, в конечном счете, на известных ценностях, базовых для римской цивилизации.
Одна из таких ключевых ценностных установок, полисных по своей сути, заключалась в том, что военная служба считалась долгом и вместе с тем привилегией свободного гражданина, причем в качестве хорошего солдата предпочитался достаточно зажиточный собственник и отец семейства. Превосходство военной организации классического Рима основывалось, как заметил еще Полибий (VI. 52. 1—
Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что следующим шагом в размывании традиционных римско-гражданских основ армии стал набор в легионы провинциалов, а затем переход к региональному и локальному рекрутированию, что было неизбежным следствием создания постоянной армии, размещенной главным образом в приграничных зонах. Это имело парадоксальный эффект: наряду с увеличением базы рекрутирования расширилась брешь, отделявшая армию от гражданского общества. И хотя внешних войн было не меньше, чем в позднереспубликанский период, большинство населения Империи жило преимущественно в мирных условиях, совершенно не зная военной жизни, и все более смотрело на солдат как на чужеродную, маргинальную с.125 группу. Однако, освобождение большинства населения от военной службы не мешало гражданским людям осуждать исчезновение староримских доблестей и требовать от профессиональных воинов-добровольцев их применения на практике.

Сама по себе демилитаризация Италии и внутренних провинций в наших источниках трактуется неоднозначно. Согласно Тациту, такое положение приводит к тому, что римские вооруженные силы оказываются сильны только чужеземцами, и поэтому население демилитаризованных районов обречено хранить рабскую покорность воле провинциальных войск и играть роль добычи в гражданской войне (Tac. Ann. III. 40. 3; Hist. I. 11. 3). Более поздние авторы прямо связывают возможность мирной жизни для италийцев и жителей внутренних областей с утратой свободы, установлением единовластия и созданием постоянной армии из граждан, провинциалов и союзников (Dio Cass. LVI. 40. 2; ср. LII. 27. 1; Herod. II. 11. 3—
Если же обратиться к авторам более позднего времени, то у них упадок римского государства и моральное разложение общества вполне однозначно связываются с варваризацией армии. Так, Аврелий Виктор, подчеркивая гибельные последствия варваризации войска, усматривает ее причины в моральной негодности самих римлян: …с тех пор, как распущенность побудила граждан по их беспечности набирать в войска варваров и чужеземцев, нравы испортились, свобода оказалась подавленной, усилилось стремлением к обогащению (De Caes. 3. 14). В другом месте (37. 7) он связывает установление господства военщины с позицией сенаторов, которые безропотно согласились с эдиктом Галлиена, запретившим им доступ на командные посты в легионах: наслаждаясь покоем и дрожа за свое богатство…, они расчистили солдатам, и притом почти варварам (paene barbaros), путь к господству над самими собой и над потомством.
Такого рода суждения вполне естественны в устах позднего писателя, воочию наблюдавшего итоги длительного процесса. Однако первые конкретные указания на проблему варваризации римской армии обнаруживаются еще у авторов конца республиканского периода, в частности, у Цицерона. В январе 49 г. до н. э. он высказывает опасение по поводу приближения к Риму варваров, вероятно, имея в виду галлов, входивших в войска Цезаря (Att. VII. 13. 3). Солдат Антония, находившихся с.126 в Риме осенью 44 г. до н. э. оратор прямо называет варварами, предвосхищая то впечатление, которое спустя столетие произведет на римлян пребывшее из Германии войско Вителлия (Tac. Hist. II. 88). О том, что солдаты эпохи гражданских войн воспринимались как варвары, могут свидетельствовать и некоторые строки Вергилия. В Буколиках Мелибей жалуется, что его полем и посевами завладел безбожный вояка, варвар (I. 70—

Уже в это время длительное пребывание легионов в провинциях и тесное общение с местным населением способствовали, как отмечают источники, определенной варваризации римских солдат. Например, Цезарь, отмечая, что солдаты Помпея в Испании от постоянных войн с туземцами привыкли к своего рода варварскому способу сражения, поясняет это тем, что на солдат вообще оказывают влияние нравы тех стран, где они подолгу дислоцируются (BC. I. 44. 2; ср. также B. Alex. 53. 2: …воины, которые от долгого пребывания [в провинции] уже сделались провинциалами). О солдатах, оставленных в 55 г. до н. э. Габинием для защиты Птолемея Авлета, Цезарь пишет, что они привыкли к александрийской вольной жизни, забыли об имени римского народа и о дисциплине, успев обзавестись женами и детьми (BC. III. 110. 2). Столетия спустя подобная ситуация будет констатирована Тацитом в Сирии, где между провинциалами и солдатами возникли добрые отношения, сложились родственные и деловые связи (Hist. II. 80. 5). По мнению Тацита, такие тесные контакты с местным населением вообще разлагающе действуют на войско (Hist. I. 53. 3: inter paganos corruptior miles).
Наши источники фиксируют разнообразные признаки и проявления варваризации римских солдат — от заимствования видов вооружения, боевых приемом и обычаев до манеры одеваться. Если открытость римлян чужому военному опыту, в том числе и варварскому, оценивается в целом положительно, то варварские черты во внешнем облике римских солдат и командиров вызывают подчеркнуто негативную оценку в литературных источниках. К примеру, Тацит отмечает, что военачальник Вителлия Цецина у горожан и колонистов Италии вызывал возмущение тем, что одетый, как галл, в длинные штаны и короткий полосатый плащ, он позволял себе разговаривать с людьми, облаченными в тоги (Hist. II. 20. 1). Как самые настоящие варвары, выглядели с.127 в глазах столичных жителей и простые солдаты-вителлианцы, попавшие в Рим: одетые в звериные шкуры, непривычные к городской сутолоке, они наводили повсюду страх и трепет своим видом не меньше, чем грабежами; даже климат Италии оказался для них вреден (Tac. Hist. II. 88; 94).
Столь же невиданным войском выглядели в столице и отряды, набранные Нероном в провинциях, и VII Гальбанский легион, прибывший из Испании (Tac. Hist. I. 6. 2). По словам Тацита, легионеры-вителлианцы своим свирепым видом, грубой речью и наглостью поразили даже солдат из расположенных в Иллирии войск, когда прибыли туда агитировать за своего вождя (Hist. II. 74). Характерно, что при осаде Плаценции преторианцы Отона называли вителлианцев peregrinum et externum, попрекая их тем, что они, скитаясь на чужбине, забыли о родине. А в другом месте сам Тацит заявляет, что и Вителлий, и его армия предавались жестокостям и распутству, как варвары (Hist. II. 21. 4; 73. 2). Для Диона Кассия, Геродиана и Scriptores Historiae Augustae иллирийские легионеры Септимия Севера тоже выглядят как самые настоящие варвары со всеми коннотациями грубости, кровожадности, дикие видом и речью (Dio Cass. LXXIV. 2. 6; Herod. II. 9. 11; VII. 6. 1; SHA. Did. Iul. 6. 5). Напротив, Плиний Младший, желая похвалить солдат, прибывших с Траяном в Рим, подчеркивает, что они ничем не отличались от городского плебса — ни одеждой, ни спокойствием, ни скромностью (Pan. 23. 3).
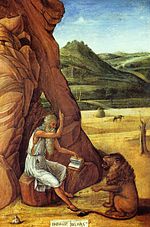
Таким образом, в восприятии античных писателей внешний облик солдат и сама манера их поведения, безусловно, имели знаковый характер. Акцентируя, а нередко и утрируя соответствующие характеристики, литературные источники создают, конечно, весьма тенденциозный образ солдата императорской армии, но в этом проявляется непосредственная реакция современников на ту объективную опасность, которая заключалась в постепенном размывании национально-римских основ военной организации и оказывалась особенно грозной в ситуации гражданских войн, когда соперничали провинциальные армейские группировки и создавались условия, благоприятствующие для восстаний самих провинциалов против римского владычества. Можно, по-видимому, даже говорить в связи с этим об изменении самого характера гражданских войн по сравнению с республиканским периодом, после того как была открыта тайна императорской власти (arcana imperii). Показательно, что Павел Орозий в своей Истории склонен именовать войны за власть в Поздней империи не гражданскими, но союзническими (quid nisi socialia iure vocitentur), поскольку императоры утверждаются у власти британскими и галльскими племенами (V. 22. 5 sqq.).
Употребленный Орозием термин bella socialia, естественно, вызывает в памяти Союзническую войну 91—
На место италийских союзников гораздо шире, чем раньше, стали привлекаться формирования из перегринов и иноземных племен. В императорский период эти перегринские auxilia стали вторым основным родом войск, практически равным по численности легионам. Такая дихотомия на новом качественном уровне повторяла прежнее деление вооруженных сил Рима на legiones populi Romani и италийских socii. И она таила, по сути дела, те же потенциальные угрозы (если не большие), от которых не могло гарантировать ни предоставление рядовым ауксилиариям гражданства в награду за долгую службу, ни романизация племенной верхушки, представители которой получали высокие военные посты. В этих угрозах вполне отдавали себе отчет современники, имевшие перед глазами опыт событий рубежа 60—

В их основе, безусловно, лежал общий антагонизм между римскими завоевателями и подвластными народами. Особенно драматический характер он приобретал тогда, когда разделял одно и то же семейство. Так было в случае с двумя братьями-херусками Арминием и Флавом (см. замечательную сцену их свидания у Тацита в Ann. II. 9—
Однако, несмотря на отдельные эксцессы, военно-политическая система, созданная в Ранней империи, по меньшей мере до
Более того, даже в конце

В целом же, рассмотренные выше литературные свидетельства, при всей их пристрастности и односторонности, верно улавливают и отражают одну из ведущих тенденций в развитии римских вооруженных сил, которая, в свою очередь, является проявлением глобального взаимодействия мира варваров и античного общества. Усиленное подчеркивание оппозиции римское — варварское применительно к военной организации может, как кажется, свидетельствовать о том, что общественное сознание хотело видеть в армии один из оплотов римского мира, ибо с ней были связаны и величие Рима, и безопасность его границ.
ПРИМЕЧАНИЯ
и военного аппарата империи, повлекли за собой глубокие изменения во всех остальных сферах социально-политической жизни.
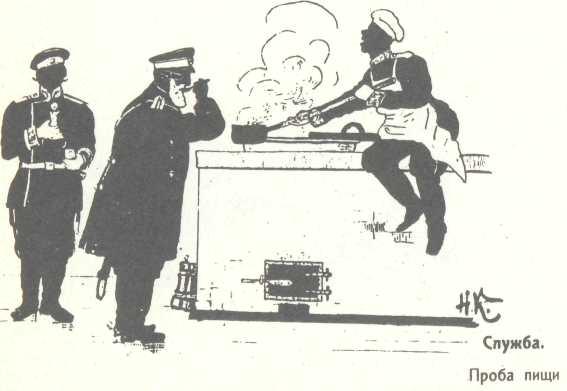 Отныне выступления рабов подавлялись без всякой пощады. Хотя империя пробовала приспособиться к возникающим зачаткам феодальных отношений, на самом деле вся ее политика имела следствием консервацию отживших рабовладельческих отношений. Все это привело к тому, что экономические противоречия были загнаны вглубь. Они обязательно должны были проявиться с новой силой. Вследствие проведения политики домината более других ухудшилось положение рабов. Император Константин дважды повторил закон, который фактически восстановил право господина убивать своего раба. Этот закон гласил: если господин засечет раба до смерти, он может не бояться судебного преследования, так как он проявил лишь законное право исправлять плохих рабов. Отныне подстрекательство раба к бегству каралось уже не штрафом, как III в., а розгами и пыткой. Рабов, которых поймали при попытке перейти к варварам, не возвращали, как раньше, своим господам, а ссылали на рудники. В некоторых случаях им отрезали ногу. Свободная женщина, которая вступила в связь с рабом, приговаривалась к костру, причем, если сам раб доносил на нее, его награждали свободой. Император Константин официально узаконил продажу в рабство детей бедняков их родителями, а также при нем был издан закон, который позволял вернуть в рабство вместе с его детьми дерзкого вольноотпущенника. Подобные жестокие законы, направленные против рабов, имели своей целью подавить малейшее сопротивление и в других слоях населения. В первую очередь среди колрнов, количество которых, занятых в сельском хозяйстве, с каждым годом стало возрастать. Увеличился удельный вес и в сельскохозяйственном производстве, а в силу этого увеличилось и их значение. С сельском хозяйстве поздней империи колон стал уже гораздо более характерной фигурой, чем раб в классическом понимании этого термина. Об этом свидетельствует такой факт: любой нищий бродяга, происхождение которого не было установлено, по законам в. считался беглым рабом, а по законам IV века — беглым колоном. Отныне пленные, захваченные во время военных действий, становились не рабами, как раньше, а колонами. А поэтому не удивительно, что новое законодательство большое внимание уделяет именно колонам, а не рабам. Независимо от того, был колон первоначально посажен иа землю рабом, пленником, неоплатным должником или наследственным арендатором, в IV в. он уже был обязан землевладельцу натуральной рентой и отработками на его земле.
Отныне выступления рабов подавлялись без всякой пощады. Хотя империя пробовала приспособиться к возникающим зачаткам феодальных отношений, на самом деле вся ее политика имела следствием консервацию отживших рабовладельческих отношений. Все это привело к тому, что экономические противоречия были загнаны вглубь. Они обязательно должны были проявиться с новой силой. Вследствие проведения политики домината более других ухудшилось положение рабов. Император Константин дважды повторил закон, который фактически восстановил право господина убивать своего раба. Этот закон гласил: если господин засечет раба до смерти, он может не бояться судебного преследования, так как он проявил лишь законное право исправлять плохих рабов. Отныне подстрекательство раба к бегству каралось уже не штрафом, как III в., а розгами и пыткой. Рабов, которых поймали при попытке перейти к варварам, не возвращали, как раньше, своим господам, а ссылали на рудники. В некоторых случаях им отрезали ногу. Свободная женщина, которая вступила в связь с рабом, приговаривалась к костру, причем, если сам раб доносил на нее, его награждали свободой. Император Константин официально узаконил продажу в рабство детей бедняков их родителями, а также при нем был издан закон, который позволял вернуть в рабство вместе с его детьми дерзкого вольноотпущенника. Подобные жестокие законы, направленные против рабов, имели своей целью подавить малейшее сопротивление и в других слоях населения. В первую очередь среди колрнов, количество которых, занятых в сельском хозяйстве, с каждым годом стало возрастать. Увеличился удельный вес и в сельскохозяйственном производстве, а в силу этого увеличилось и их значение. С сельском хозяйстве поздней империи колон стал уже гораздо более характерной фигурой, чем раб в классическом понимании этого термина. Об этом свидетельствует такой факт: любой нищий бродяга, происхождение которого не было установлено, по законам в. считался беглым рабом, а по законам IV века — беглым колоном. Отныне пленные, захваченные во время военных действий, становились не рабами, как раньше, а колонами. А поэтому не удивительно, что новое законодательство большое внимание уделяет именно колонам, а не рабам. Независимо от того, был колон первоначально посажен иа землю рабом, пленником, неоплатным должником или наследственным арендатором, в IV в. он уже был обязан землевладельцу натуральной рентой и отработками на его земле.
Ho так как Римская империя в основе своей была рабовладельческим государством, колонат не мог развиться в систему феодальных отношений. Это приводило к тому, что нормы рабовладельческого общества накладывали свой отпечаток на положение колонов, фактически приближая их к рабу. Уже император Константин обложил значительным штрафом любого, кто укрывает чужого колона, а самого беглого колона предписал возвращать на его место жительства закованным в цепи.
В дальнейшем этот закон неоднократно подтверждался, причем сфера действия его с каждым годом расширялась. Законы о прикреплении колонов к земле касались не только их, но и их потомства. Отныне сын не мог покинуть участок земли, переходивший к нему от отца, а дочь не могла вступить в брак с колоном из чужого имения. Браки колона со свободными были запрещены. Колон не имел права подавать в суд на господина, поступать в армию без его разрешения, не имел права продать что-либо из своего инвентаря или урожая, так как закон не признавал за колоном имения любой личной собственности. В конце.IV в. один из императоров писал: «Можно смотреть на колонов, обязанных годовыми работами и платежами, почти как на рабов… они и сами принадлежат господам, и все их достояние принадлежит господам… и какое может быть у них право, если закон ничего не признает их собственностью». Таким образом, постепенно колоны превратились в неполноправное и прикрепленное к земле сословие. Закон в IV в. уже запрещал продавать как колонов, так и сельских рабов без земли, к которой они были приписаны по земельной описи — цензу. Поскольку землевладелец был обязан податями и повинностями в соответствии с количеством принадлежащей ему земли и приписанного к ней населения, прикрепление к земле колонов и сельских рабов было использовано государством в фискальных целях. Императоры вынуждены были один за другим издавать эдикты, которые были направлены против попыток обойти этот закон (фиктивная продажа, представление подставных колонов, покупка большого числа работников с малым количеством земли и т. д.). Отныне всякий, взявший к себе рабов, которые разбрелись из заброшенного имения, обязан был вносить подати за ту землю, на которой они жили прежде. Положение других категорий населения также определялось потребностью государства в рабочей силе и его фискальными интересами. Замкнутые корпорации были превращены в былые ремесленные коллегии, отныне их члены и их потомки не могли покинуть свою коллегию, ни даже вступить в брак за ее пределами. Коллегия в целом отвечала за наложенные на ее сочленов поставки и повинности. Некоторые коллегии были прикреплены к императорским мастерским, которые назывались фабриками. В них для армии, двора и чиновничества изготавливалось оружие, ткани, одежда и т. п. Все, кто работал на подобных фабриках, будь- то члены коллегии, либо другие лица, клеймились. Это делалось для того, чтобы пресечь их попытки к бегству. Pa- ботали они в мастерской, но чаще получали работу на дом. Кроме того, ремесленники и торговцы, в отличие от земледельцев, которые вносили подати продуктами, были обложены денежным налогом. Он взимался раз в четыре года и, как сообщают современники, год сбора налога являлся годом траура и стенаний. Ho ремесленники были зато освобождены от муниципальных повинностей. Остальная же часть городского населения буквально стонала от все возраставших муниципальных повинностей, к которым добавлялись еще и общегосударственные. По мнению тогдашних юристов, повинности делились на имущественные — которые требовали затрат, и личные — которые требовали труда. К первым причислялся сбор налогов с сограждан, а также устройство зрелищ и раздач для городского плебса, доставка перевозочных средств и фуража для войск и чиновников. В личные повинности входили ремонт дорог, общественных зданий, водопроводов, надзор за перевозками натуральных поставок для города и государства, производство ценза, вербовка рекрутов и т. д. Кроме этого, существовало много экстраординарных повинностей. Они были связаны с военными экспедициями, государственной почтой, посольствами к императорам и т. п. За уклонение от этих повинностей или недостаток в сумме податей членов городских советов, которые отныне назывались куриалами, сажали в тюрьму и нещадно били. Впоследствии могли даже казнить. Отныне, начиная с IV в., включение в число куриалов стало рассматриваться как несчастье, равное ссылке на рудники. Куриалы пытались поступить на должность чиновников или в армию, бежали в крупные имения, где становились колонами, или, женившись на рабынях, даже рабами, но их искали и возвращали в родные города. Однако, это не спасало ситуацию, курии стали катастрофически пустеть. В течение IV в. число куриалов уменьшилось в 10 раз и более. Несмотря даже на то, что в их ряды в середине IV в. стали автоматически зачисляться любые граждане, которые имели более 25 югеров арендованной земли. При создавшемся положении выгоду имела только небольшая группа самых богатых куриалов, которые пользуясь своими связями и, подкупая чиновников, умели переложить всю тяжесть повинностей на своих менее состоятельных коллег. А после скупали по дешевке их имущество и использовали их труд в качестве неоплатных должников. Нажим государства на городских землевладельцев привел к тому, что рабы и колоны, подвергаясь еще более жестокой, чем прежде, эксплуатации, в свою очередь бежали к крупным собственникам. Они искали покровительства, которое называлось патроницием, у сильных людей, чиновников, военных. Если такой человек становился патроном, то за соответствующее возмещение деньгами или натурой он защищал их от бывших господ. Все это привело к еще большему разложению средних хозяйств, увеличило концентрацию земли и рабочей силы в руках немногих собственников. Подобное положение куриалов повлияло на положение солдат и ветеранов, из которых раньше пополнялись ряды декурионов. Правда, император Константин и его преемники подтвердили и даже расширили привилегии ветеранов. Отныне они получали на пустующих землях имения, освобождались от большого числа повинностей. Им отдавалось зерно, инвентарь, деньги или рабы из заброшенных имений. Подобные условия были бы весьма выгодными, когда имение с 10 — 20 рабами обеспечивало владельцу достаточный доход и почетное положение в городе. Ho в тот период, когда рабовладельческое хозяйство приходило в упадок, ветераны могли извлечь мало выгод из подобных имений. Уже при императоре Константине редкий ветеран мог дать своему поступавшему в армию сыну двух коней или коня и раба, что обеспечило бы ему службу в более привилегированной части. А сын и преемник императора Константина — Констанций писал, что многие ветераны, бросив свои хозяйства, обратились к разбою. К тому же сыновья ветеранов, если они не шли в армию, зачислялись в курию и тогда все полученные их отцами привилегии аннулировались. Это привело к тому, что военная служба утратила свою былую привлекательность. Участились случаи самоувечья рекрутов, а случаи дезертирства становились распростра ненным явлением. Отныне добровольный набор в армию был в основном заменен обязательной поставкой землевладельцами рекрутов из числа своих колонов. Землевладельцы часто старались отдать вербовщикам самых малосильных и нетрудоспособных людей, а многие предпочитали вносить установленную за рекрута денежную сумму. Солдаты, которые набирались из числа презираемых колонов, не могли теперь рассчитывать дослужиться до командных должностей и разница между командиром и солдатом, которая начинала стираться в III в., стала снова очень велика. Командиры присваивали солдатское жалование, распродавали отпущенный на армию провиант и обмундирование, использовали солдат для личных услуг. Все это крайне отрицательно повлияло на боеспособность римской армии. Отныне императоры предпочитали нанимать солдат из германских и сарматских племен. В качестве командиров зачисляли племенных вождей, что привело к постепенному увеличению их роли в жизни империи. Отныне племенные вожди приобретали большое значение, так как становились высшими военачальниками, сановниками и консулами. Целые племена селились на землях империи под условием службы в армии. Они получали название летов и федератов. Античные историки сообщают, что в конце III в. уже менее одной четверти армии составляли уроженцы империи. Остальные же три четверти являлись представителями варварских племен. Создавшееся положение очень сильно пугало некоторых деятелей поздней империи, они указывали правительству, что опасно держать армию из соплеменников римских врагов и римских рабов, т. е. варваров. Они пытались доказать, что рано или поздно варвары, занявшие высшие посты в государстве, найдут мощную поддержку в рабах, которые ненавидят своих господ, и с помощью их смогут покорить империю. Люди эти призывали приложить все силы, чтобы возродить подлинно римскую армию из солдат, набранных на территории империи. Ho советы эти оставались без последствий, так как в обстановке внутреннего напряжения в стране императоры больше доверяли чужеземным наемникам, чем своим согражданам. Кроме того, население, которое было бы пригодно к военной службе, с каждым годом становилось все меньше. Правда, императорским правительством делались несмелые попытки сохранить свободное крестьянство придунайских областей в качестве резерва для армии. Рядом указов было запрещено привлекать крестьян к экстраординарнымповинностям, уводить за долги рабов-пахарей и быков, принуждать свободных крестьян работать на землях «сильных людей». В середине IV в. с этой целью был создан особый институт «городских дефенсоров» ( защитников) для наблюдения за соблюдением законов и правосудия. Дёфен- сорам городов дунайских провинций было предписано защищать крестьян, но это помогало очень мало. Налоги, повинности и долги с каждым годом все больше и больше разоряли крестьян. Даже узаконенный процент при займе продуктами равнялся трети долга, а фактически был еще выше. В придунайских областях до середины III в. также стало расти крупное землевладение в связи с наделением землей местных жителей, которые сделали карьеру в армии и при дворе, богатые собственники всячески закабаляли свободных крестьян, заставляли их отрабатывать долги в своих имениях. Здесь также сложился колонат, узаконенный императорами в конце IV в. Во всех областях империи крестьяне, которые еще сохраняли независимость, спасаясь от сборщиков налогов, целыми селами шли под патрониций крупных землевладельцев, хотя те за защиту отнимали у них землю и обращали их в колонов. В конце IV в. патрониций принял такие гигантские размеры, что императоры стали вести с ним жестокую борьбу. Отныне они налагали на патронов штраф в 25 — 40 фунтов золота за каждого принятого ими крестьянина. Несмотря на это, свободное население продолжало быстро исчезать. К крупным частным землевладельцам уходили не только крестьяне, но и рабы и колоны императорских сальтусов, хотя императоры предоставляли им некоторые льготы. Например, они могли вступать в законный брак со свободными, которые при этом не теряли свободы; их могли судить только императорские управляющие — рационалы или судьи в присутствии рационала; они были освобождены от экстраординарных повинностей и налога на торговлю. Наряду с этим штраф за удержание беглого императорского колона равнялся одному фунту золота, что более чем вдвое превышало штраф за удержание колона частного. Тем не менее, бесконтрольное, жестокое управление рационалов, которые наживались на своих должностях, делало положение императорских колонов невероятно тяжелым. Вследствие этого они старались перейти под патрониций частных магнатов. Так получилось, что земельные магнаты были единственным сословием, которое процветало в годы правления дрмината. Отныне все крупные землевладельцы, высшиечиновники и высший состав армии входили в наследственное привилегированное сословие сенаторов, причем принадлежность к нему предполагала, в отличие от времен ранней империи, обязательного участия в делах и заседаниях сената. В число сенаторов император Константин включил и богатейших куриалов, чем нанес большой удар по платежеспособности курий. Сенаторы были свободны от всяких повинностей, от всяких связей с городами. Они вносили непосредственно в казну земельный налог, который определялся в зависимости от их состояния и составлял от до 8 фунтов золота в год. В юбилеи императоров они были обязаны делать им богатые подарки, кроме этого, на них вбзлагались значительные затраты ( до 4 тыс. фунтов серебра) на игры, постройки и другие мероприятия в связи с отбыванием ими претуры. Ho тем не менеё расходы эти были не столь уж велики, если учесть, что ежегодные доходы некоторых сенаторов исчислялись в несколько тысяч фунтов золота. Принадлежащие им в различных провинциях земельные владения, нередко значительно превышающие территории , приписанные городам, были населены тысячами посаженных на землю рабов и колонов. Виллы были укреплены и окружены селами и хуторами рабов и колонов, из которых составлялись ,вооруженные отряды для борьбы с разбойниками и варварами. Все необходимое, вплоть до водопроводных труб производилось и обменивалось внутри имения, на внутренних, освобожденных от налогов на торговые сделки рынках» Такое имение было замкнутым целым, недоступным для императорских чиновников. Даже провинциальные наместники боялись раздражать владельца, либо каким-то образом затронуть человека, числившегося иод его защитой. Члены крупных сенаторских родов обычно занимали высшие государственные должности, что обеспечивало полную безнаказанность как им самим, так и их близким. Подобная автономия сенаторских имений стояла, как только что было доказано на примере патрониция, в противоречии с императорской властью. Процесс развития кризиса, общий для всей империи, имел свои особенности в отдельных областях государства. Различия между провинциями, которые несколько сгладились в период расцвета империи, когда широкое развитие получило муниципальная организация, отныне снова проявились со своей прежней силой. Особенно велики бы: и различия между западными и восточными провинциями, хотя каждая из этих частей империи была далеко не однородна. В части западных районов, где рабство было развито менее сильно, чем в других провинциях, большую роль продолжало играть свободное крестьянство (сумевшие сохранить общинное устройство Британия, придунайские провинции, северо- восточные части Галлии, Нумидия, Мавретания) . С наступлением кризиса рабовладельческого способа производства разложение общины стало приводить уже не к закреплению рабства, а к закабалению крестьян крупными землевладельцами. Формирование элементов феодализма шло здесь прямым путем. Оно вызывало резкое ухудшение положения сельского населения, которое повсеместно поднималось на борьбу. Здесь быстрее стали развиваться не связанные с городами крупные имения, владельцы которых сами создали аппарат принуждения для подавления эксплуатируемых и начинают все меньше нуждаться в ослабевшей империи. Отныне в ней видели лишь бесполезного претендента на часть прибавочного продукта, который создавался колонами и рабами. Постоянные восстания народа и оппозиция земельной знати римскому императорскому правительству, которая проявилась во все учащавшихся с середины IV в. мятежах, делали общую позицию империи весьма непрочной. Районы, где рабство достигло высокого развития — юго-восточные части Галлии, Испания, проконсульская Африка и сама Италия— значительно сильнее пострадали от кризиса и приходили во все больший упадок. Города, которые все еще сохранялись на этих землях, отныне влачили жалкое существование. Курии быстро пустели. Императорское правительство пыталось найти опору в более состоятельных куриалах, давая им некоторые привилегии. Оно стремилось во что бы то ни стало сохранить города, которые служили его фискальным интересам. Ho было бессильно восстановить их былое значение. Такие города Запада как Медиолан (Милан), Августа Треве- ров (Трир), Арелата (Арль) были обязаны своим процветанием лишь тому, что служили императорскими резиденциями или центрами торговли, удовлетворявшей потребность знати в импортных предметах роскоши. В этих областях значительная часть колонов состояла из посаженных на землю рабов. Все институты рабовладельческого общества и сама Империя сохраняли здесь глубокие корни, но вследствие прогрессирующей экономической деградации этих областей они не могли на долгое время обеспечить ей прочную базу. Еще более сложным было положение восточных провинций. Развитие некоторых областей, таких как, например, Ахайя и западные береговые районы Малой Азии, где господствовал античный рабовладельческий полис и где рабство еще до римского завоевания вытеснило все другие отношения, зашло в тупик. В ряде глубинных частей Малой Азии, Египта, Сирии, а также в большинстве районов Фракии и отчасти в Македонии, городская организация и рабство существенной роли никогда не играли, а поэтому ко- лонатные отношения здесь развивались на основе разложения сельской общины и старых, переживших эллинизм, форм эксплуатации. Особое место занимали те из областей Малой Азии, Сирии, Египта, где высокое развитие рабства сочеталось со значительной ролью в производстве свободного населения (арендаторов земли и ремесленников). Города, земли которых возделывали колоны, оказались более устойчивыми. Причем огромную роль играл тот факт, что города восточных провинций были важнейшими центрами ремесла и торговли не только внутренней, но и внешней. Между тем, в то время как торговые связи населения западных городов с зарейн- скими и задунайскими народами почти совершенно прервалась, торговые сношения восточных провинций с Персией, Аравией и другими соседними странами в первый период домината вновь оживились. Этому оживлению способствовали временное умиротворение на восточной границе и проведенная императором Константином денежная реформа, как уже знаем, более удачная, чем реформа его предшественников. Жизнь таких центров, как Антиохия, Никея, Ни- комедия, Александрия, а также более мелких городов, была интенсивной и оказывала значительное влияние на весь строй провинций. Так античная культура была прежде всего культурой городской, она не претерпела на Востоке такого упадка как на Западе, хотя развитие кризиса нанесло ей и здесь существенный удар и значительно модифицировало ее. Таким образом экономический и культурный центр империи стал перемещаться на Восток. В то же время социальные противоречия в восточных провинциях были намного сложнее. Здесь, наряду с борьбой между сельским населением и землевладельцами, чрезвычайно острыми были столкновения между различными социальными группами в городах — между более и менее состоятельными куриалами, между городскими землевладельцами и окрестными колонами, которые обрабатывали их земли и земли городов, между купцами, которые делали себе состояния на дороговизне товаров и городским плебсом, который требовал дешевого хлеба, а также владельцами мастерских и обслуживавшими их ремесленниками и рабами. Кроме того, города противостояли земельным магнатам, которые стремились захватить городские земли и подчинить себе сидевших ца них колонов. Таким образом, лавируя между этими группами, опираясь то на одну, то на другую, императорское правительство чувствовало себя здесь прочнее, чем на Западе, где его социальная база постепенно исчезала. В результате всех вышеперечисленных причин, как уже отмечалось, столица империи отныне была перенесена на Восток. Уже Диоклетиан жил в Никомедии. Император же Константин в 330 г. превратил в столицу старый торговый город на берегу пролива Боспор — Византий, который получил название Константинополь. Город этот отличался выгодным географическим положением и естественными укреплениями, которые сделали его практически неприступным. Как уже говорилось, здесь с размахом велось строительство. Постепенно Константинополь, являясь императорской резиденцией, затмил собою старый Рим.
Возвышение Константинополя было внешним выражением того факта, что империя уже не составляла единого целого. Различные пути развития кризиса в ее отдельных областях, которые были обусловлены разницей в их экономическом и социальном строе, привели к фактическому расколу империи сначала на восточную и западную половины, а затем и на более мелкие части.
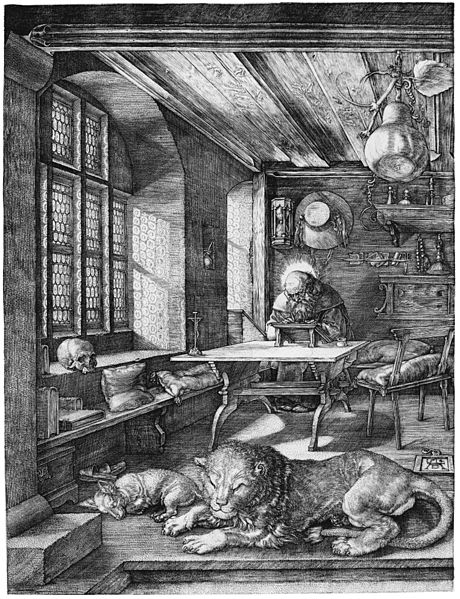
Положение, в которое попали куриалы, повлияло на положение солдат и ветеранов, из которых раньше пополнялись ряды декурионов. Правда, Константин и его преемники подтвердили и даже расширили привилегии ветеранов. Эти последние получали на пустующих землях имения, освобождённые от большего числа повинностей, зерно, инвентарь, деньги или рабов из заброшенных имений.
Эти условия были бы весьма заманчивы в те времена, когда имение с 10—20 рабами обеспечивало владельцу достаточный доход и почётное положение в городе. Но в период упадка рабовладельческого хозяйства ветераны мало могли извлечь выгод из своих имений. Уже при Константине редкий ветеран мог дать своему поступавшему в армию сыну двух коней или коня и раба, что обеспечивало ему службу в более привилегированной части, а сын и преемник Константина Констанций писал, что многие ветераны, побросав свои хозяйства, обратились к разбою.
Всё это лишало военную службу привлекательности, случаи самоувечья рекрутов и дезертирства становились всё чаще. Добровольный набор в армию был в основ ном заменён обязательной поставкой землевладельцами рекрутов из числа колонов. Землевладельцы часто старались подсунуть вербовщикам самых малосильных и нетрудоспособных людей; многие предпочитали вносить установленную за рекрута денежную сумму.

Солдаты, набиравшиеся из числа презираемых колонов, не могли теперь рассчитывать дослужиться до командных должностей; разница между командиром и солдатом, несколько стиравшаяся в III веке, снова стала очень велика. Командиры присваивали солдатское жалованье, распродавали отпущенный на армию провиант и обмундирование, использовали солдат для личных услуг. Всё это крайне понижало боеспособность римской армии.
Императоры предпочитали нанимать солдат из германских и сарматских племён. Командиры набирались из числа племенных вождей, которые начинают играть крупную роль в жизни империи, становясь высшими военачальниками, сановниками, консулами. Целые племена селились на землях империи под условием службы в армии.
Это были так называемые леты и федераты. По расчётам историков, к концу IV века минее четверти армии составляли уроженцы империи. Некоторых деятелей поздней империи очень пугало создавшееся положение.
Они указывали правительству, что опасно держать армию из соплеменников римских врагов и римских рабов, то есть «варваров», что рано или поздно занявшие высшие посты в государстве «варвары» найдут мощную поддержку в рабах, которые ненавидят своих господ, и с их помощью покорят империю, что надо приложить все силы, чтобы возродить подлинно римскую армию из солдат, набранных на территории империи. Но советы эти оставались без последствий, так как в обстановке обострённой классовой борьбы императоры больше доверяли чужеземным наёмникам, а населения, пригодного к военной службе, становилось всё меньше.
Цитируется по изд.: Всемирная история. Том II. М., 1956, с. 794-795.
Источники: